ПОБЕДНЫЕ ЧТЕНИЯ
забытые, известные и современные книги
о Великой Отечественной войне
забытые, известные и современные книги
о Великой Отечественной войне
Книг о Великой Отечественной войне написано огромное количество. Борис Васильев, Константин Симонов, Виктор Астафьев, Валентин Катаев – писатели, к произведениям которых обращался почти каждый. Если не читал, то смотрел экранизацию. Но в этом материале мы хотим не только напомнить об известных, но и сказать о забытых и современных книгах русской литературы.
Интересный факт
Известно, что после Октября дело просвещения страны Владимир Ленин отдал в руки своей жене, Надежде Крупской. Что она сделала? К примеру, запретила читать Платона, Канта, Шопенгауэра, Ницше, Лескова, Льва Толстого!
Но в ближайшем будущем творение Льва Толстого "Война и мир" станет едва ли не главной книгой для читающей части населения во время и после войны.
Но в ближайшем будущем творение Льва Толстого "Война и мир" станет едва ли не главной книгой для читающей части населения во время и после войны.
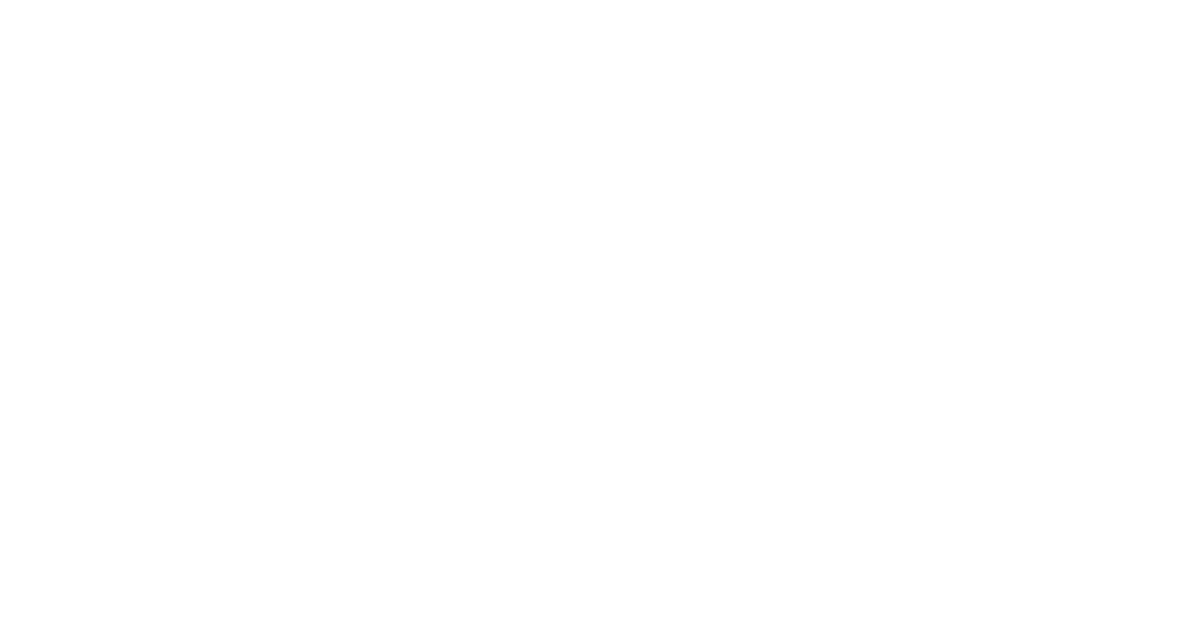
Конечно, читать книги участников войны или современников – ценно. Они доносили истории, которые больше никто никогда не расскажет. Хорошие и не очень, оптимистичные и трагичные, правдивые и пропагандистские – разные.
"Повесть о настоящем человеке"
Борис Полевой
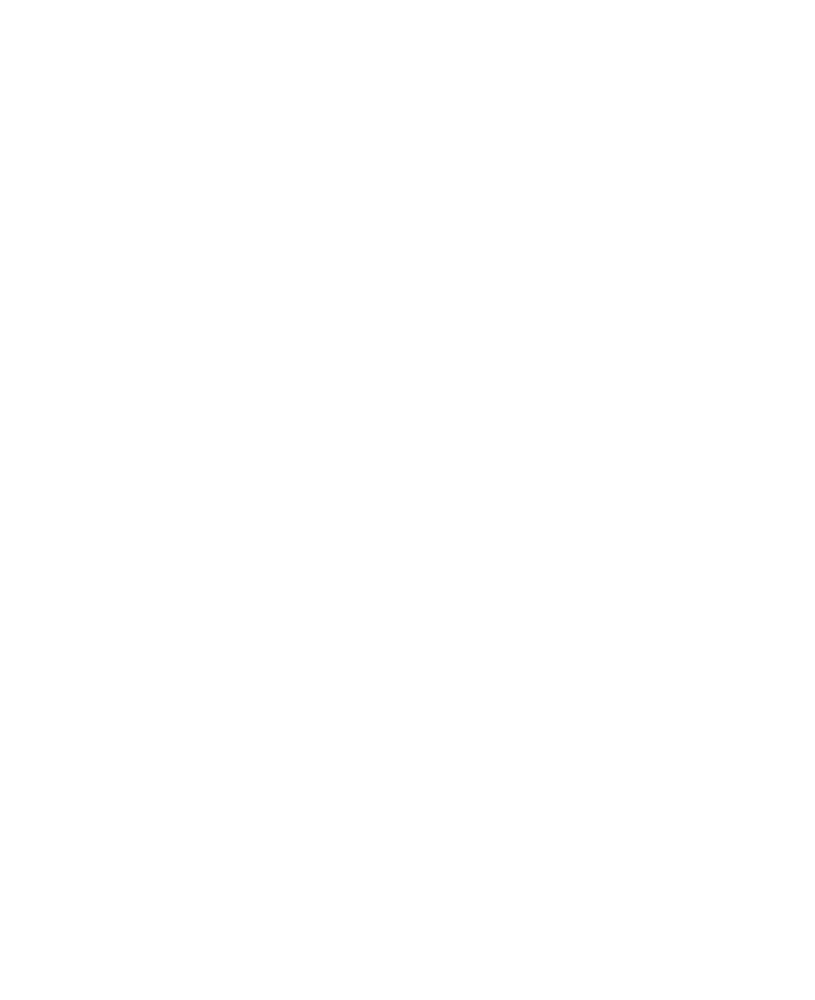
Борис Полевой написал немало книг, но, безусловно, самая известная его работа — «Повесть о настоящем человеке». Историю в четырёх главах автор создал всего за 19 дней: настолько был впечатлен историей военного лётчика Алексея Маресьева, которого писатель встретил во время боев на Курской дуге. После страшного ранения Маресьеву ампутировали обе ноги. Тем не менее, даже получив инвалидность, он надел протезы и, проявив невероятную силу воли, вернулся в строй. Всего на счету Маресьева 86 боевых вылетов, 10 сбитых фашистских самолётов. Причем 7 из них он сбил уже после ампутации ног.
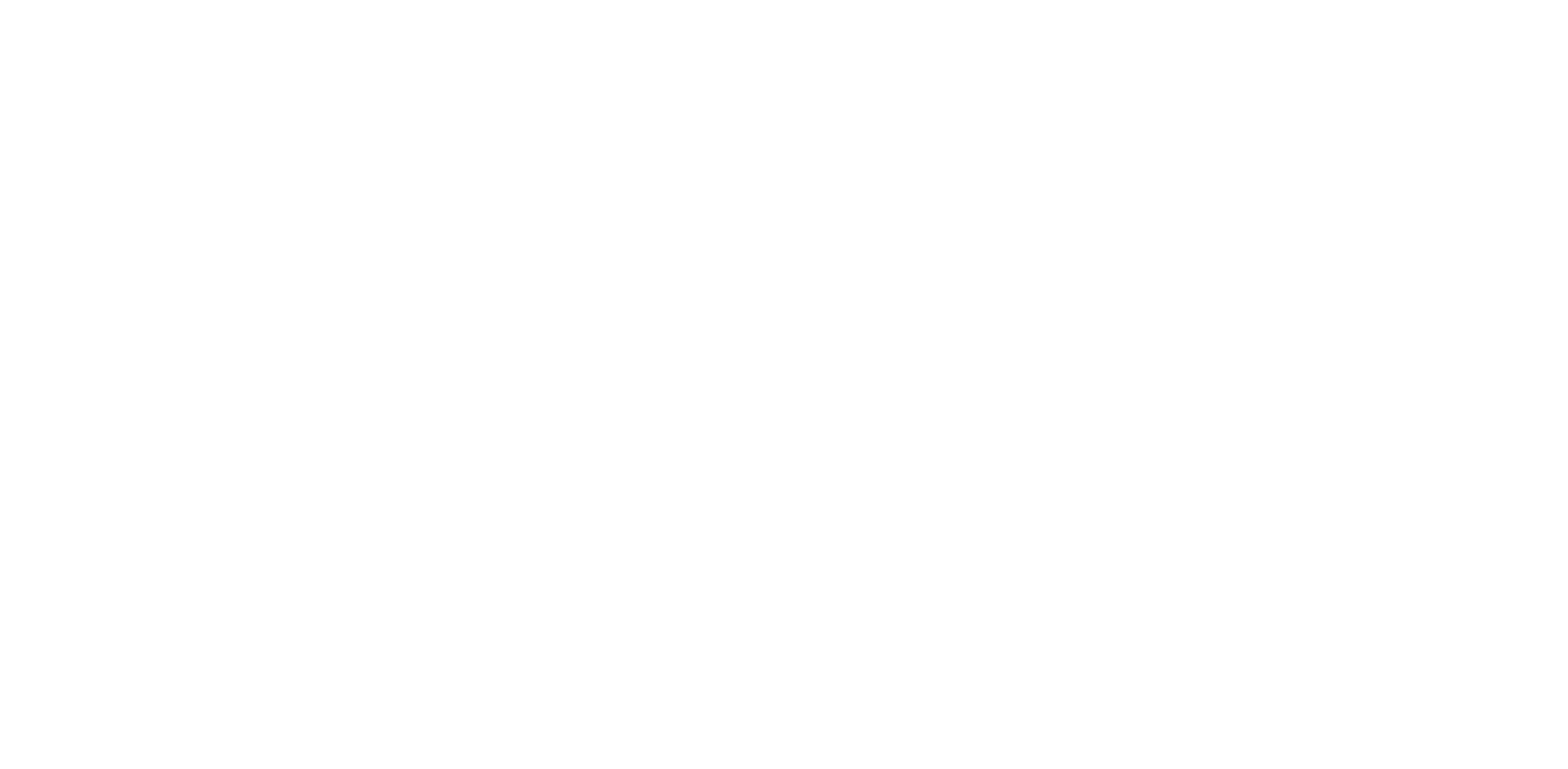
Лётчик Алексей Петрович Маресьев
Книга завоевала славу не только в СССР, но и во всем мире. Только до 1954 года общий тираж её изданий составил 2 миллиона экземпляров. Сегодня мало кто из современных авторов может таким похвастаться.
Почему же книга пользовалась такой популярностью? Если не брать в расчёт то, что это мужественный поступок, служивший примеров для советского человека. То скорее всего из-за главной мысли — у каждого человека есть шанс на жизнь, даже когда шансов нет. Особенно если он знает, ради чего живёт.
Почему же книга пользовалась такой популярностью? Если не брать в расчёт то, что это мужественный поступок, служивший примеров для советского человека. То скорее всего из-за главной мысли — у каждого человека есть шанс на жизнь, даже когда шансов нет. Особенно если он знает, ради чего живёт.
"Дожить до рассвета"
Василь Быков
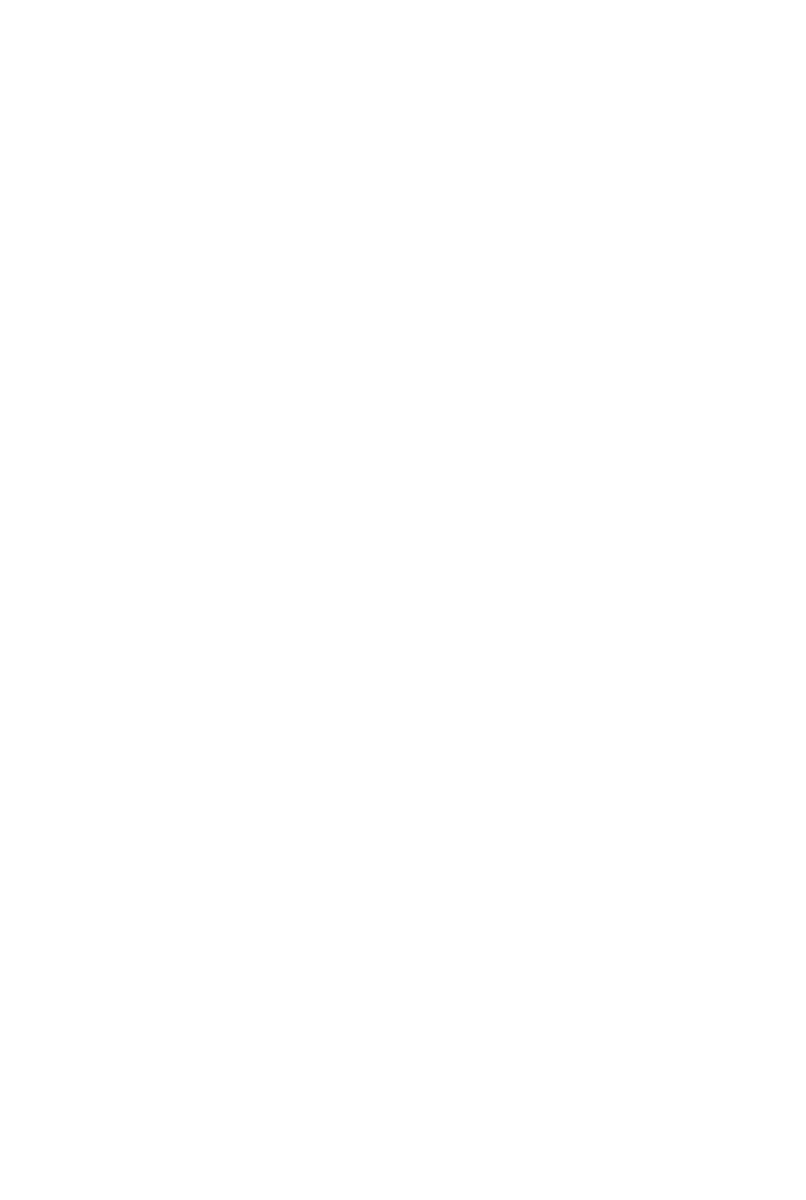
Печальное произведение белорусского автора являет перед читателем всю глубину душевных переживаний одного человека. Да, он всего лишь маленькая шестеренка в гигантской машине войны, но его действия способны если и не остановить ее безжалостный механизм, то существенно замедлить. Герой выполняет опасное задание ценой собственной жизни, осознанно идя на жертву во имя победы.
Еще писатель одним из первых показал захватчиков не как абстрактных "монстров", а как обычных людей. Они в мирное время владеют теми же профессиями, что советские солдаты.
И осознание этого делает ситуацию еще более трагичной.
И осознание этого делает ситуацию еще более трагичной.
"Они сражались за Родину"
Михаил Шолохов
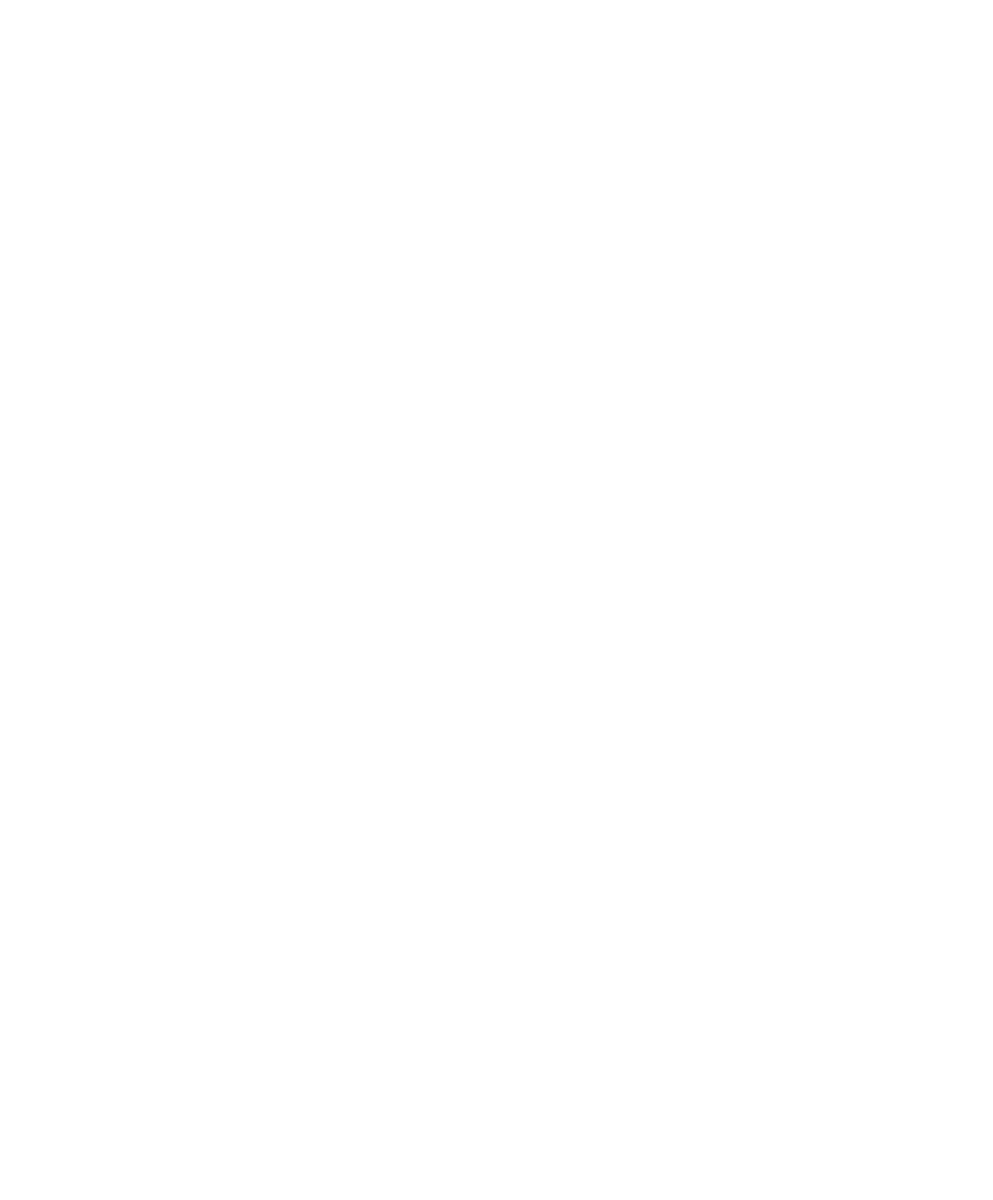
Подобно Гоголю, Шолохов сжег продолжение своего романа.
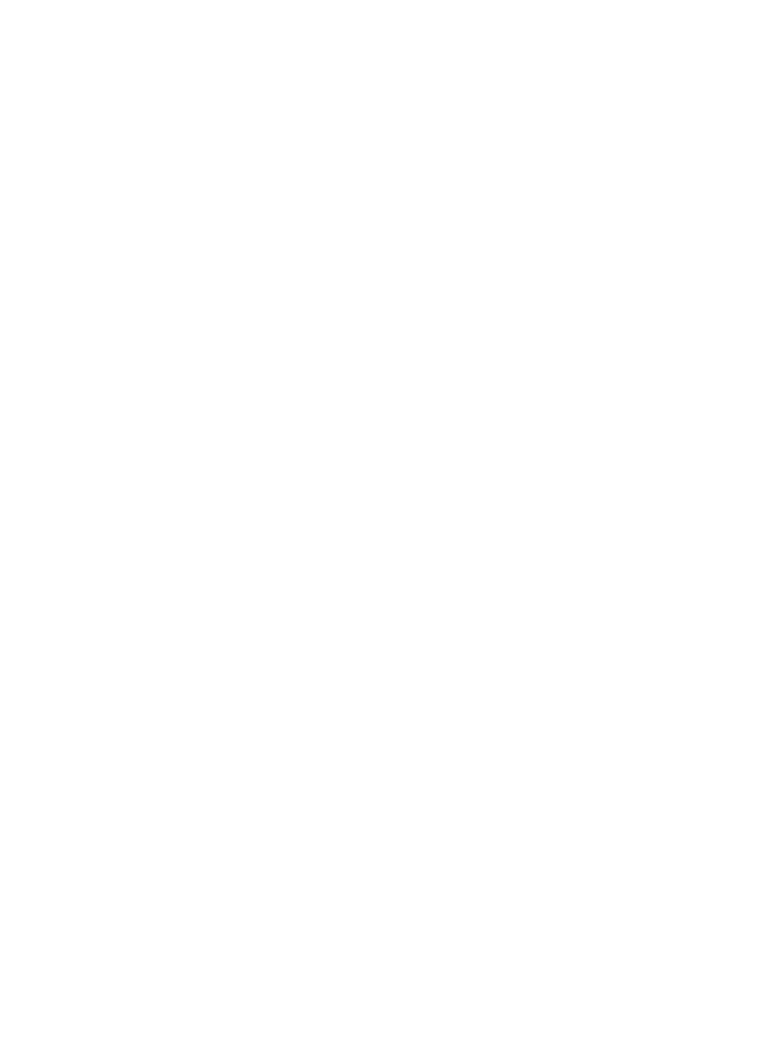
Однако и первой части достаточно, чтобы понять через какие тяготы проходили солдаты пехоты. Они глохнут из-за контузий, недоедают, не высыпаются, то и дело возвращаются думами к родному дому. Некоторые уже и вовсе не верят в победу, но находят в себе силы вновь и вновь идти в атаку.
"Прокляты и убиты"
Виктор Астафьев
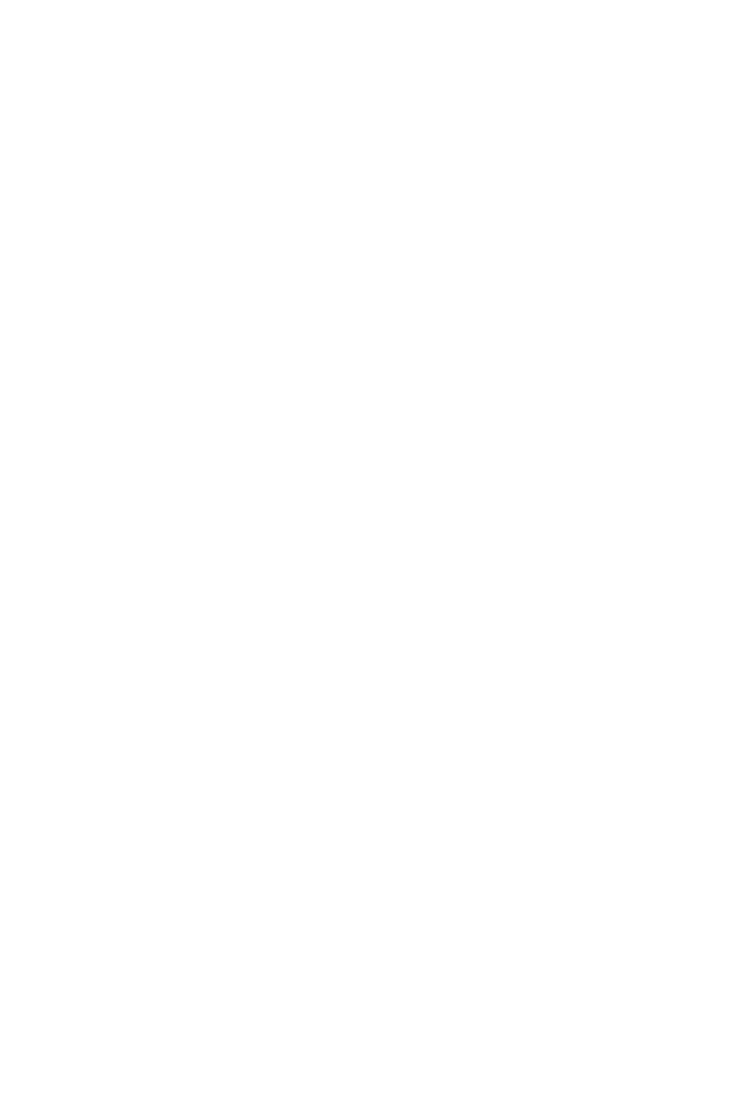
А произведение Виктора Астафьева ценно вдвойне, ведь его автор – фронтовик, лично переживший войну.
В книге – не плакатно-глянцевая картинка войны. Астафьев показывает весь её ужас, всё то, что пришлось пройти нашим солдатам, перетерпеть и от немцев и от собственного руководства. Страшное произведение, которое кричит сквозь строками: "Через это проходили живые люди".
В книге – не плакатно-глянцевая картинка войны. Астафьев показывает весь её ужас, всё то, что пришлось пройти нашим солдатам, перетерпеть и от немцев и от собственного руководства. Страшное произведение, которое кричит сквозь строками: "Через это проходили живые люди".
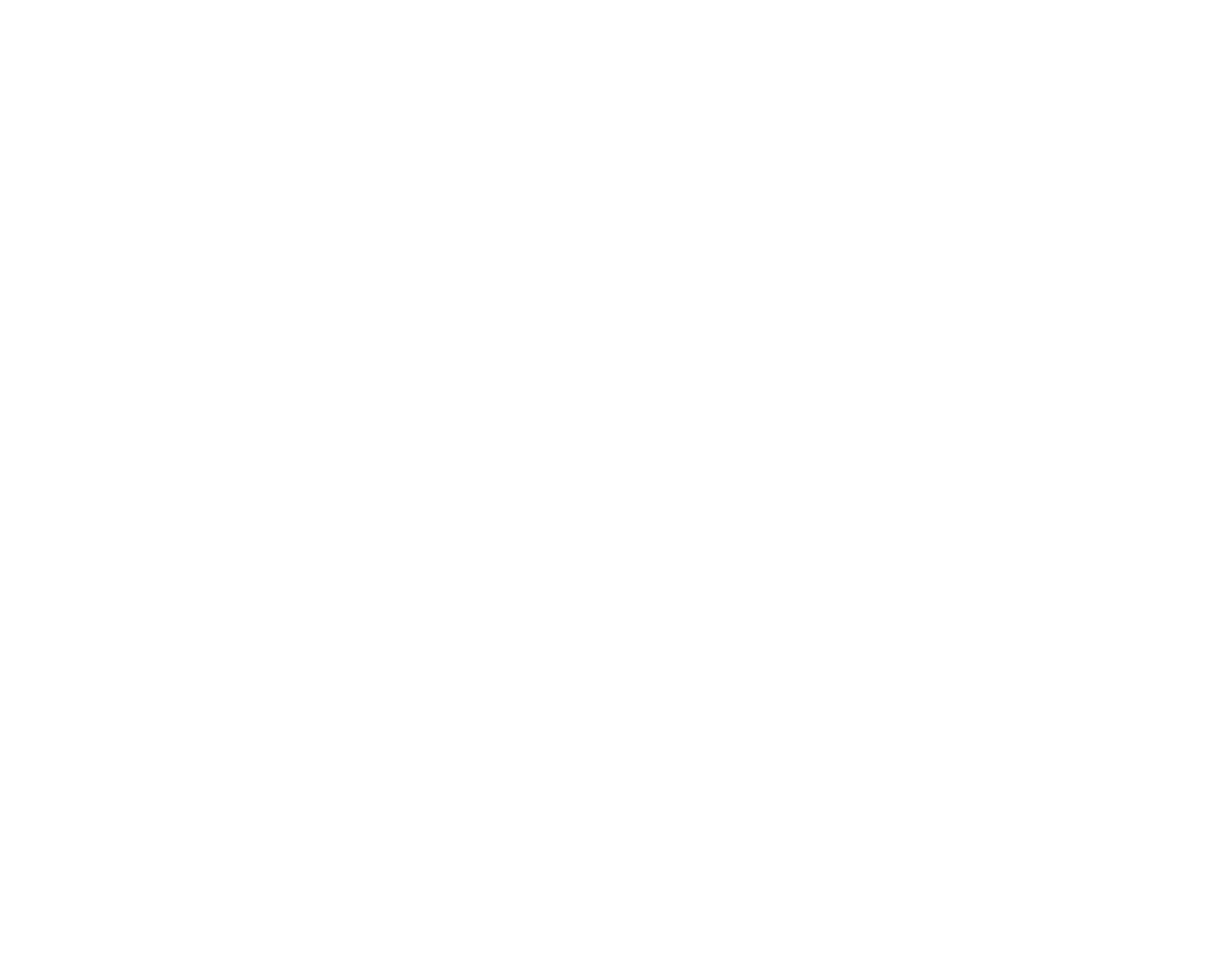
Не удивительно, что этот роман вызвал неоднозначные отклики. Но как тут иначе? Автор попытался сказать всю правду о войне, дойти до её сути, но правда у каждого своя.
Алексей Варламов, писатель, о книге "Прокляты и убиты":
Астафьев в каком-то смысле ответил на вопрос, который очень часто звучит и в критике, и в читательских размышлениях: Почему у нас нет «Войны и мира» о Великой Отечественной? О той войне такого романа и нельзя было написать: слишком тяжела эта правда. Войну невозможно залакировать, покрыть глянцем, невозможно отвлечься от ее кровавой сути. Астафьев – человек, который прошел войну, был против подхода, при котором она становится предметом идеологической борьбы.
У Пастернака есть определение, что книга – кусок дымящийся совести, и больше ничего. Астафьевский роман заслуживает этого определения.
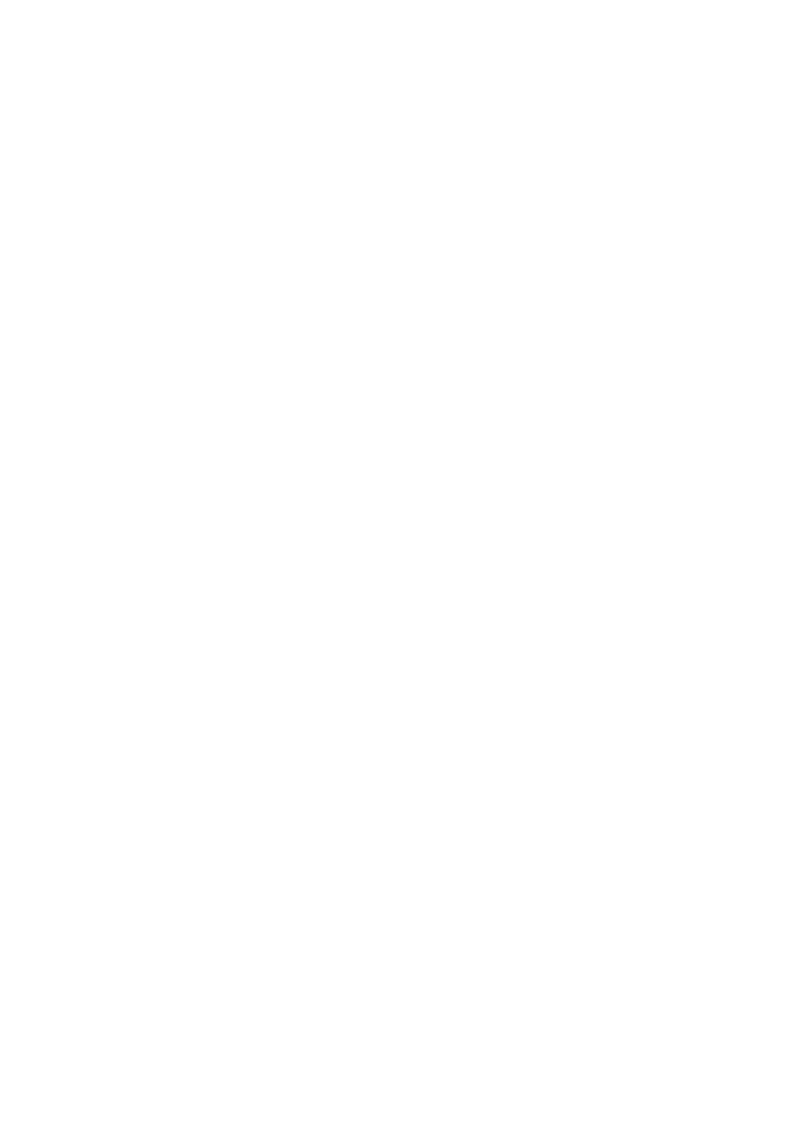
Если у Астафьева тяжёлое произведение, то совсем не парадная война в фильме Элема Климова "Иди и смотри". Крайне тяжёлое зрелище.
Климов долгое время хотел снять фильм о войне. В детстве особое впечатление на Элема произвела ночная эвакуация по Волге, когда среди разрывов бомб он увидел, как полыхает растянувшийся на много километров вдоль берега город. Эмоции от пережитого остались у режиссёра навсегда, и он считал своим долгом снять фильм о том периоде истории.
В целом, критика высоко оценила картину, но находились и те, кто говорил: "режиссёр перегнул палку". Возможно, вот только на одном из показов присутствовал немец, сказавший: "Я солдат вермахта. Я свидетельствую: всё рассказанное в этом фильме — правда".
Как бы ни было, по словам Климова, за рубежом фильм показался настолько шокирующим, что во время сеансов у кинотеатров дежурили кареты «скорой помощи», увозя слишком впечатлительных зрителей.
Климов долгое время хотел снять фильм о войне. В детстве особое впечатление на Элема произвела ночная эвакуация по Волге, когда среди разрывов бомб он увидел, как полыхает растянувшийся на много километров вдоль берега город. Эмоции от пережитого остались у режиссёра навсегда, и он считал своим долгом снять фильм о том периоде истории.
В целом, критика высоко оценила картину, но находились и те, кто говорил: "режиссёр перегнул палку". Возможно, вот только на одном из показов присутствовал немец, сказавший: "Я солдат вермахта. Я свидетельствую: всё рассказанное в этом фильме — правда".
Как бы ни было, по словам Климова, за рубежом фильм показался настолько шокирующим, что во время сеансов у кинотеатров дежурили кареты «скорой помощи», увозя слишком впечатлительных зрителей.
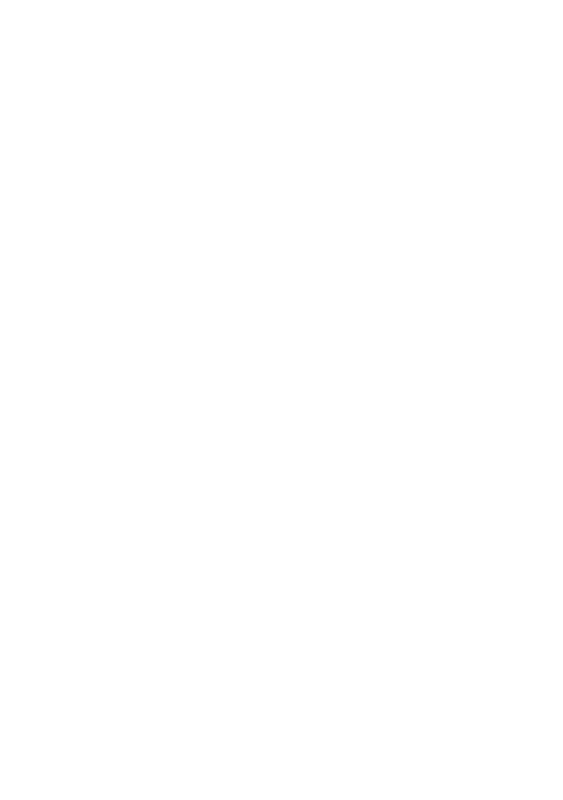
Афиша фильма
Вышеперечисленные книги/фильмы вам, наверняка, известны. Каждая из них по-своему отыгрывает разные стороны войны: оптимистичную и безрадостную. Если же хочется прочитать что-то не совсем очевидное, то обратите внимание на книгу Юрия Германа "Дорогой мой человек" или
"Навеки – девятнадцатилетние".
"Навеки – девятнадцатилетние".
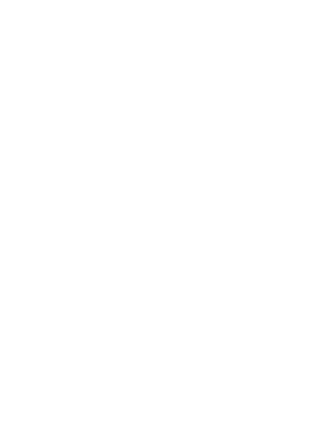
Например, роман "Навеки – девятнадцатилетние" о тех ребятах, которые остались на той войне навеки девятнадцатилетними. Из ста парней, уходивших на фронт в этом возрасте, назад возвращалось не больше трёх. Книга богато иллюстрирована черно-белыми фотографиями молодых военных, которые не вернулись с войны. С ними лично автор книги Григорий Бакланов не был знаком. Фотографии он находил у военных корреспондентов. Изображения – единственное, что осталось от юных героев.
Голосов, к которым прислушивались во время войны, много. Но только один голос ждала вся страна — голос Юрия Левитана, диктора Советского Союза.
Но от Юрия Левитана остались не только голосовые обращения, но и воспоминания.
К тому же, с осени 1941 по весну 1943 года главный диктор СССР вещал из Свердловска.
Таким образом, знаменитое левитановское «Внимание, говорит Москва!» на самом деле звучало из Свердловска – из подвала здания на улице Радищева, 2.
Информацию о пребывании Левитана в Свердловске рассекретили лишь спустя четверть века после Победы.
Из воспоминаний:
...Война началась для меня со звонка из радиокомитета: «Срочно бегите на работу! Немедленно!» Голос тревожный. Но спрашивать, что случилось, по телефону не полагается. Одеваюсь. Бегу.
Радиокомитет. Семь утра. Тихий женский плач, суровые взгляды. Наперебой звонят корреспонденты из разных городов:
— Киев бомбят!..
— Над Минском вражеские самолеты. — Горит Каунас... Что говорить населению? Почему нет никакого сообщения по радио?
Позвонили из Кремля: «Готовьтесь, в двенадцать часов правительственное сообщение».
Девять раз за день — с интервалами в час — я читал это небольшое трагическое сообщение, начинавшееся словами:
«Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в четыре часа утра... без объявления войны германские войска напали на нашу страну...» .
...Война началась для меня со звонка из радиокомитета: «Срочно бегите на работу! Немедленно!» Голос тревожный. Но спрашивать, что случилось, по телефону не полагается. Одеваюсь. Бегу.
Радиокомитет. Семь утра. Тихий женский плач, суровые взгляды. Наперебой звонят корреспонденты из разных городов:
— Киев бомбят!..
— Над Минском вражеские самолеты. — Горит Каунас... Что говорить населению? Почему нет никакого сообщения по радио?
Позвонили из Кремля: «Готовьтесь, в двенадцать часов правительственное сообщение».
Девять раз за день — с интервалами в час — я читал это небольшое трагическое сообщение, начинавшееся словами:
«Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в четыре часа утра... без объявления войны германские войска напали на нашу страну...» .
Для тех, кто ищет нестандартное чтиво, то предлагаем обратиться к творчеству Владимира Успенского и его книге «Тайный советник вождя».
Если обычно книги о тех, кто на поле боя, об участниках разных уровней и званий, то эта история о тех, кто руководит, непосредственно, об Иосифе Сталине.
История создания «Тайного советника» не менее интересна самого текста. По словам Успенского, в середине 70-х годов, узнав, что он работает над книгой о Сталине, к нему обратился очень пожилой человек, много лет друживший с Иосифом Виссарионовичем, его советник по разным вопросам, в основном по военным. Этот человек передал автору многочисленные материалы и подсказал сюжет для будущего романа.
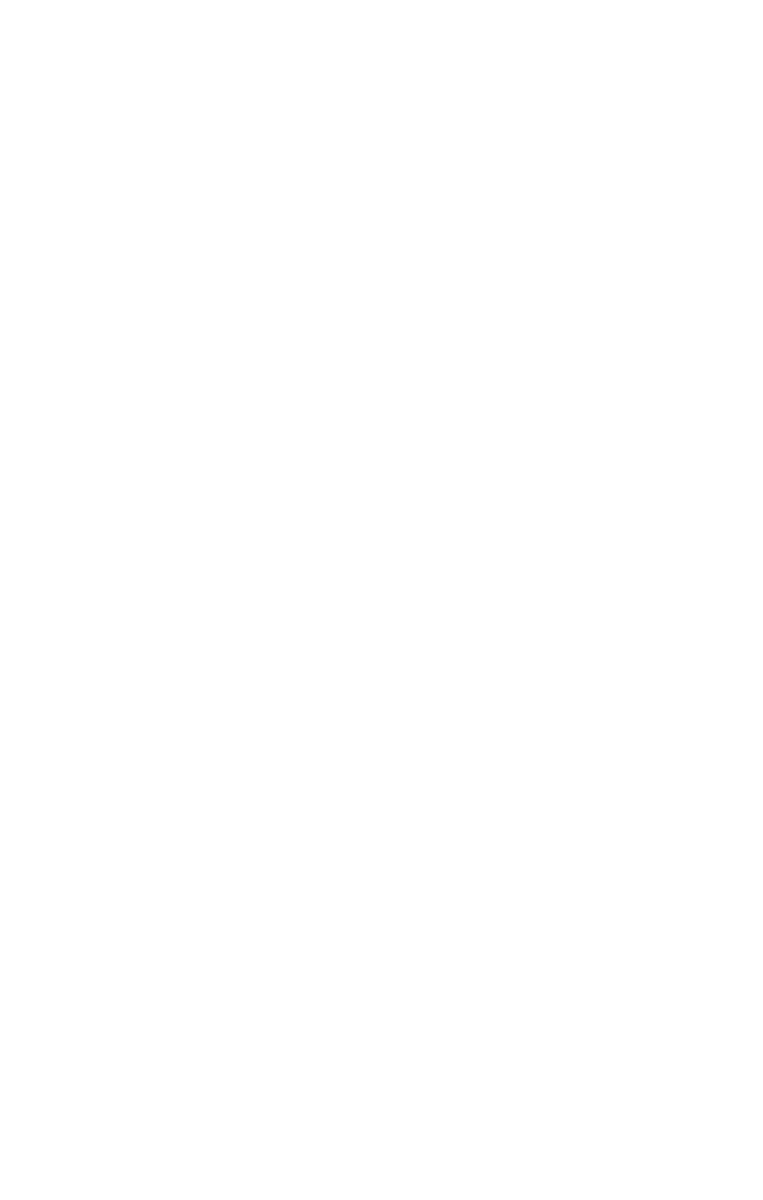
Так это было или нет? Каждый кто прочитает текст будет снова и снова задаваться этим вопросом. Но имеет ли это значение? Когда у нас на руках годная история без прикрас, но и без очернительства о Сталине, его окружении, стране.
Как он видел войну? Знал ли о репрессиях? А любил ли гулять как нормальный человек или сидел с занавешенными окнами крайне мало передвигаясь? Сказал ли он своей жене, Надежде, то роковое "Эй, ты?" или эта фраза — миф?
В какой-то момент кажется, что читаешь детектив, забывая, что в основе то —реальность.
Как он видел войну? Знал ли о репрессиях? А любил ли гулять как нормальный человек или сидел с занавешенными окнами крайне мало передвигаясь? Сказал ли он своей жене, Надежде, то роковое "Эй, ты?" или эта фраза — миф?
В какой-то момент кажется, что читаешь детектив, забывая, что в основе то —реальность.
Большая часть книг о войне вызывает тяжёлые эмоции. Но есть, пожалуй, произведение, которое выбивается из общего потока своим оптимизмом. Речь о книге Александра Твардовского.
Казалось бы, война никак не вяжется с улыбками и смехом, с развеселыми песнями хором. Однако же Твардовскому удалось показать, что даже в самые трудные минуты можно сохранить в сердце своём детскую веру в светлое будущее. Более того, жизненно важно этой самой веры не терять: шутить, дурачиться и строить планы на день грядущей — всё перечисленное помогает выстоять даже в самом суровом бою.
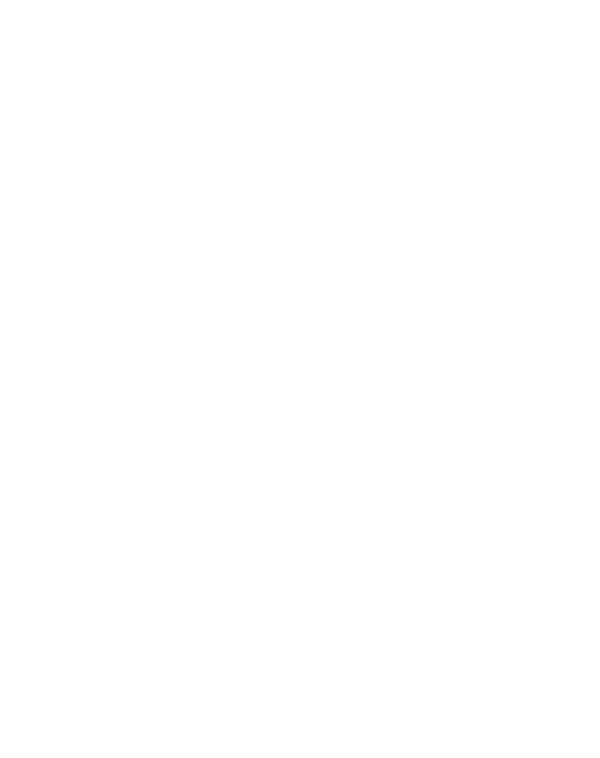
"Василий Тёркин"
Александр Твардовский
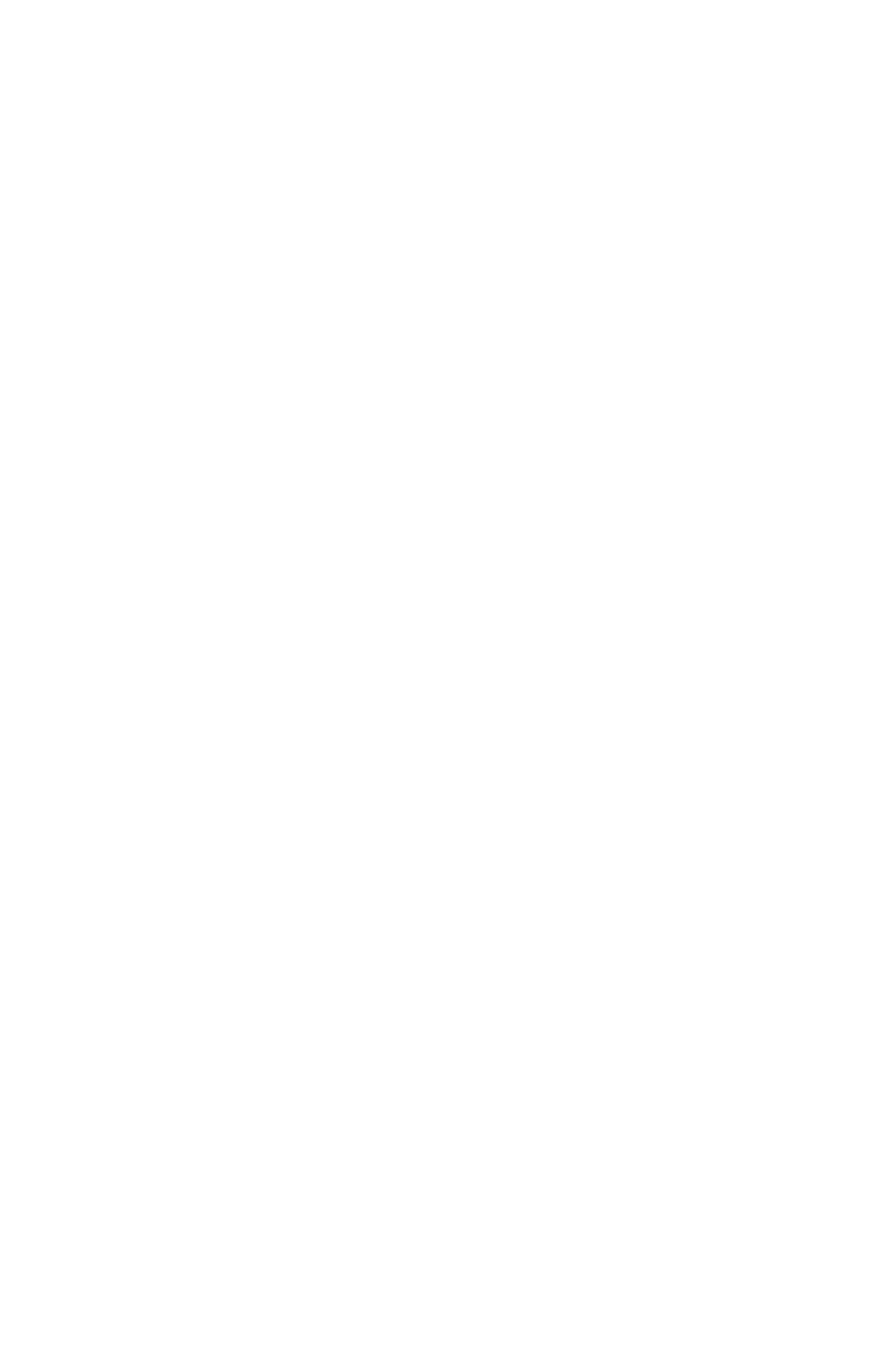
Как известно, главным героем военного времени стал книжный герой Василий Тёркин. Но знаете ли вы, что сначала был не Василий, а Вася?
Впервые солдат Вася Тёркин (ещё не Василий) появляется до Великой Отечественной — во время советско-финской войны 1939–1940 годов, в газете «На страже Родины» — в коллективных фельетонах, к которым приложили руку, помимо Твардовского, и другие поэты и прозаики. Несмотря на успех у красноармейцев, создатели персонажа не относились к нему всерьёз — кроме Александра Твардовского, который по окончании Финской кампании понял, что с этим «народным героем» ещё нужно работать, а тема советско-финской войны не исчерпана до конца.
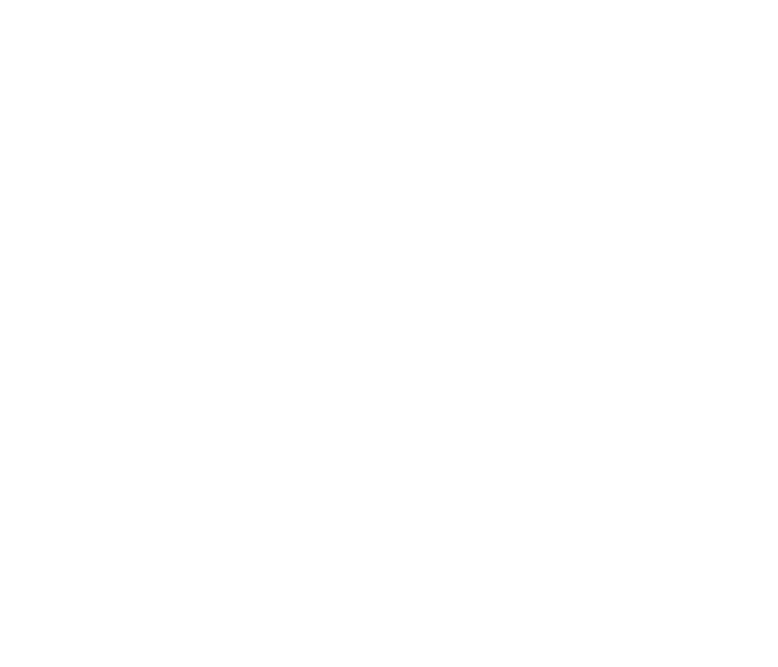
После начала войны Твардовский на некоторое время забывает о «Тёркине». Но вскоре он получает назначение военным журналистом, писателем при фронтовой газете «Красная армия» — и в это время, в дни тяжёлых военных поражений, становится очевидной необходимость произведения, поднимающего боевой дух.
Только в начале 1942 года, просмотрев свои старые тетради, Твардовский заново собирать книгу о Тёркине. Кстати, Вася Тёркин в это же время живёт своей жизнью во фронтовой печати и без Твардовского: о нём продолжают выходить стихотворные фельетоны других авторов.
Твардовский планировал окончить поэму возвращением Тёркина в строй после ранения, но стал получать письма недоумевавших читателей:
Только в начале 1942 года, просмотрев свои старые тетради, Твардовский заново собирать книгу о Тёркине. Кстати, Вася Тёркин в это же время живёт своей жизнью во фронтовой печати и без Твардовского: о нём продолжают выходить стихотворные фельетоны других авторов.
Твардовский планировал окончить поэму возвращением Тёркина в строй после ранения, но стал получать письма недоумевавших читателей:
Ваша поэма закончена, а война продолжается. Просим Вас писать дальше, ибо Тёркин будет участвовать в войне до победного конца.
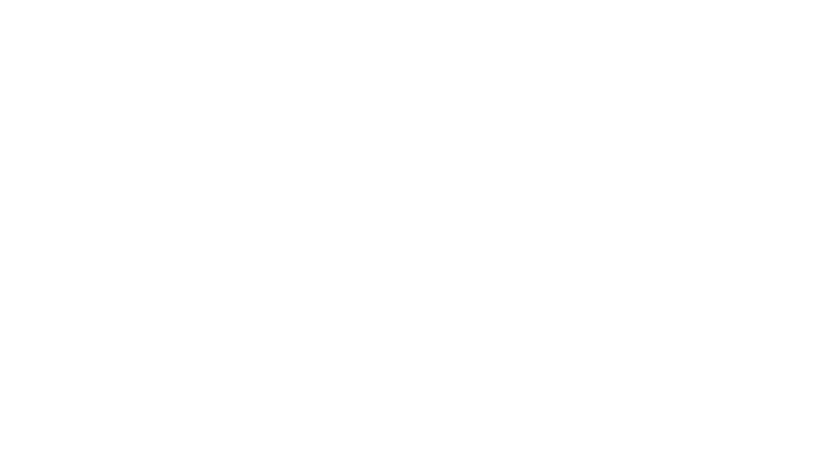
Ю. М. Непринцева
«Отдых после боя»
«Отдых после боя»
И надо сказать Твардовский послушался: последние главы «Тёркина» помечены 1945 годом, а заключительная глава «От автора» была написана в ночь с 9 на 10 мая.
Если у вас нет времени на книгу, то обратите внимание на то как Муниципальное объединение библиотек Екатеринбурга "оживило" поэму. Главы из «Василия Тёркина» читают горожане разных возрастов и профессий. Каждый записал видеоролик со своим чтением, и в День Победы будет представлена полная видеоверсия «книги о бойце».
Что важно, некоторые книги и экранизации сегодня заиграли иначе. Казалось бы, "А зори здесь тихие"— простая и трагичная история юных зенитчиц, которая на войне случалась сплошь и рядом. Но всё не так просто. Именно по этой книге писателя Бориса Васильева был снят известный одноименный фильм. Его режиссёр Станислав Ростоцкий сделал одну важнейшую вещь — показал войну с "женским лицом".
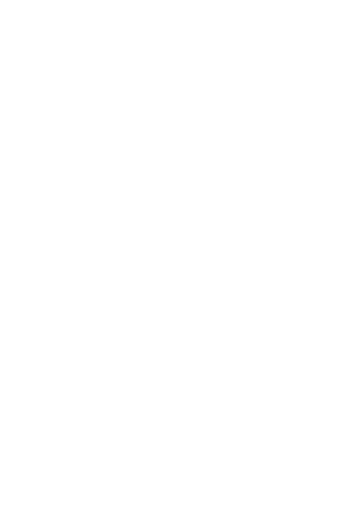
Великая Отечественная осталась в памяти последующих поколений войной, у которой не было «женского лица». Почти миллионная армия женщин, принимавших участие в боевых действиях, в официальной мемориальной культуре «растворилась», превратившись в невидимых солдат великой войны.
Но по крупицам, благодаря таким фильмам и книгам, образ женщины на законных основаниях стал частью коллективной памяти о войне.
Так, режиссёр, сам прошедший войну, утверждал, что экранизировать эту историю его побудили воспоминания о медсестре, вынесшей его когда-то с поля боя.
Но по крупицам, благодаря таким фильмам и книгам, образ женщины на законных основаниях стал частью коллективной памяти о войне.
Так, режиссёр, сам прошедший войну, утверждал, что экранизировать эту историю его побудили воспоминания о медсестре, вынесшей его когда-то с поля боя.
"А зори здесь тихие"
Борис Васильев
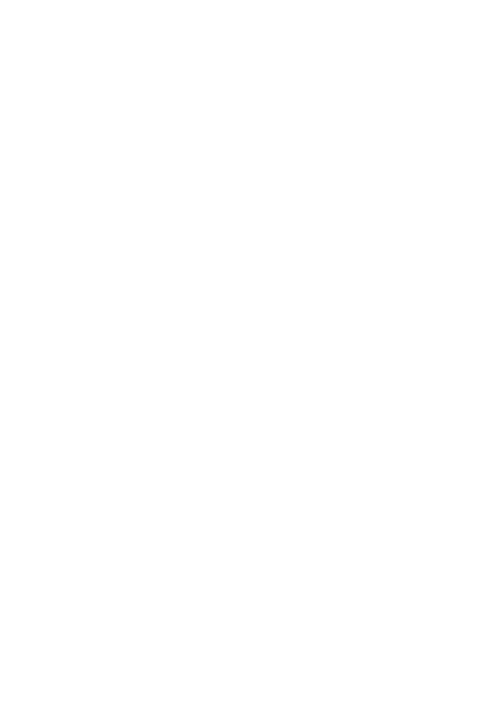
Борис Васильев — классик русской литературы, а его произведения: «Завтра была война», «В списках не значился», «Не стреляйте в белых лебедей» — золотой фонд литературы.
По сюжету девичья бригада во главе со старшиной противостоит в неравной схватке вражеским диверсантам. В событиях 1942 года погибают все, кроме командира. Это тонкое психологическое произведение, в котором показано как любовь, красота и смерть не просто ходят рядом, а пересекаются друг с другом.
Роман о юных зенитчицах "А зори здесь тихие" многим известен по неповторимой экранизации 1972 года, которую пересматривает вот уже не одно поколение.
Что интересно, концепция фильма не понравилась автору повести, Борису Васильеву. Да и в целом судьба ленты была достаточно трудной.
По сюжету девичья бригада во главе со старшиной противостоит в неравной схватке вражеским диверсантам. В событиях 1942 года погибают все, кроме командира. Это тонкое психологическое произведение, в котором показано как любовь, красота и смерть не просто ходят рядом, а пересекаются друг с другом.
Роман о юных зенитчицах "А зори здесь тихие" многим известен по неповторимой экранизации 1972 года, которую пересматривает вот уже не одно поколение.
Что интересно, концепция фильма не понравилась автору повести, Борису Васильеву. Да и в целом судьба ленты была достаточно трудной.
Развивая тему женщин, непременно стоит сказать об Ольге Берггольц — голосе блокадного Ленинграда.
Во время Великой Отечественной войны Берггольц не покинула Ленинград и даже в тяжёлых условиях продолжала писать: "Февральский дневник", "Ленинградскую поэму".
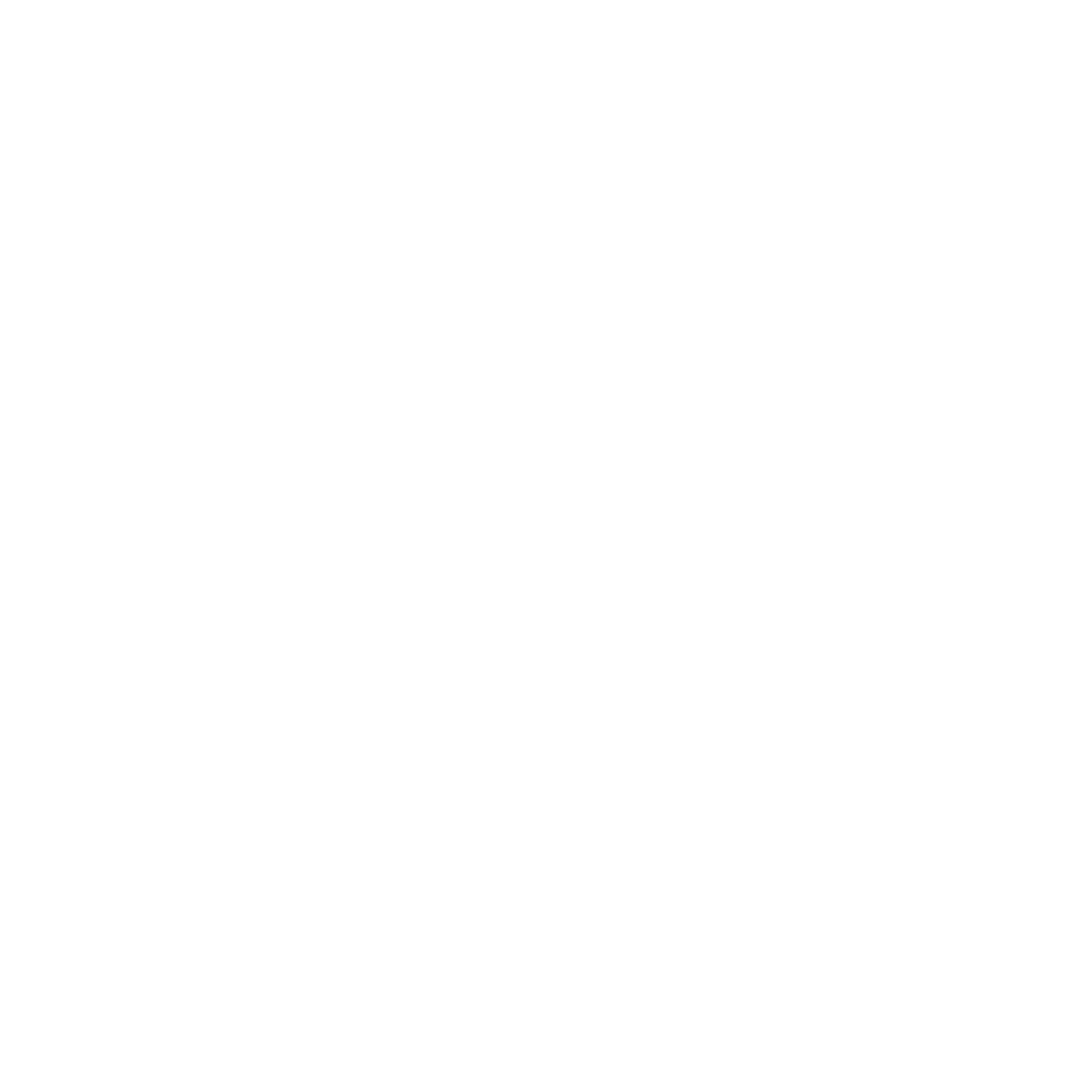
Всю блокаду, каждый день, она выходила в эфир по радио. Умирающие от истощения люди слушали обращения поэтессы из черных «тарелок» репродукторов и укреплялись в вере дожить до победы.
Голос Ольги не зря назвали символом Победы, а поэтессу – «блокадной Мадонной» и музой осажденного города.
Автор крылатой строки, высеченной на Мемориальной стене Пискарёвского кладбища, где похоронены многие жертвы Ленинградской блокады: «Никто не забыт, ничто не забыто».
Голос Ольги не зря назвали символом Победы, а поэтессу – «блокадной Мадонной» и музой осажденного города.
Автор крылатой строки, высеченной на Мемориальной стене Пискарёвского кладбища, где похоронены многие жертвы Ленинградской блокады: «Никто не забыт, ничто не забыто».
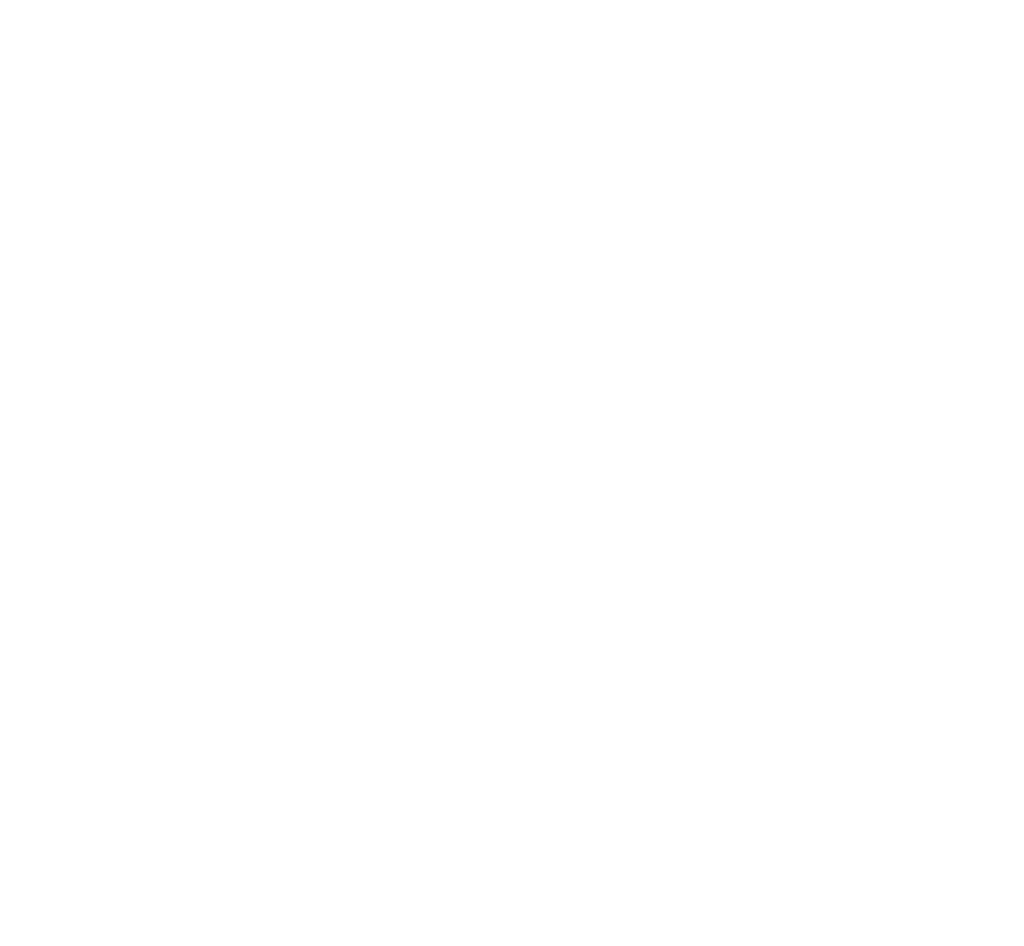
Или можете обратиться к забытой сегодня писательнице – Вере Пановой. А ведь у неё интересный опыт. В военные годы по заданию одной из редакций Вера 2 месяца провела в качестве корреспондента на санитарном поезде. Она совершила четыре рейса к местам боев. В итоге всё это вылилось в книгу "Спутники" – литературную сенсацию, публикация которой привела её в ряды Союза писателей.
Как говорили современники, Пановой удалось нарисовать невероятно яркую и разнообразную галерею характеров, а также правдоподобно показать героев и реалии окружающей действительности.
Как говорили современники, Пановой удалось нарисовать невероятно яркую и разнообразную галерею характеров, а также правдоподобно показать героев и реалии окружающей действительности.
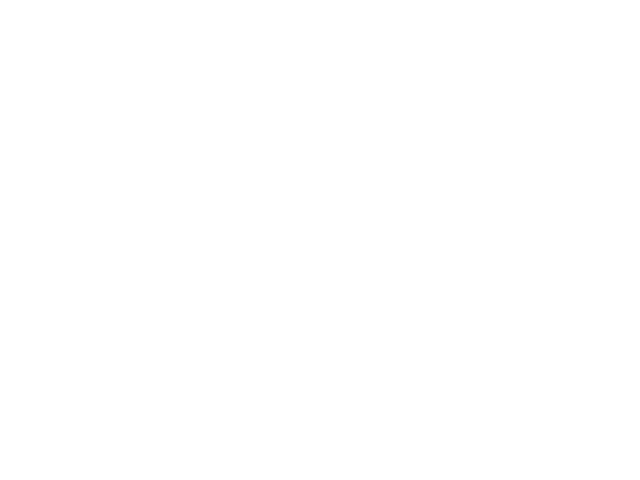 | 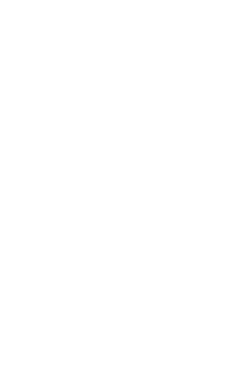 |
Говоря о современности, самый большой вклад в раскрытие темы войны с "женским лицом" внесла Светлана Алексиевич.
"У войны не женское лицо"
Светлана Алексиевич
Душераздирающее полудокументальное повествование о трагических судьбах женщин, участвовавших в войне. Молодой режиссёр Кантемир Балагов хоть и не экранизировал книгу в прямом смысле, но вдохновение для фильма "Дылда" черпал именно из неё.
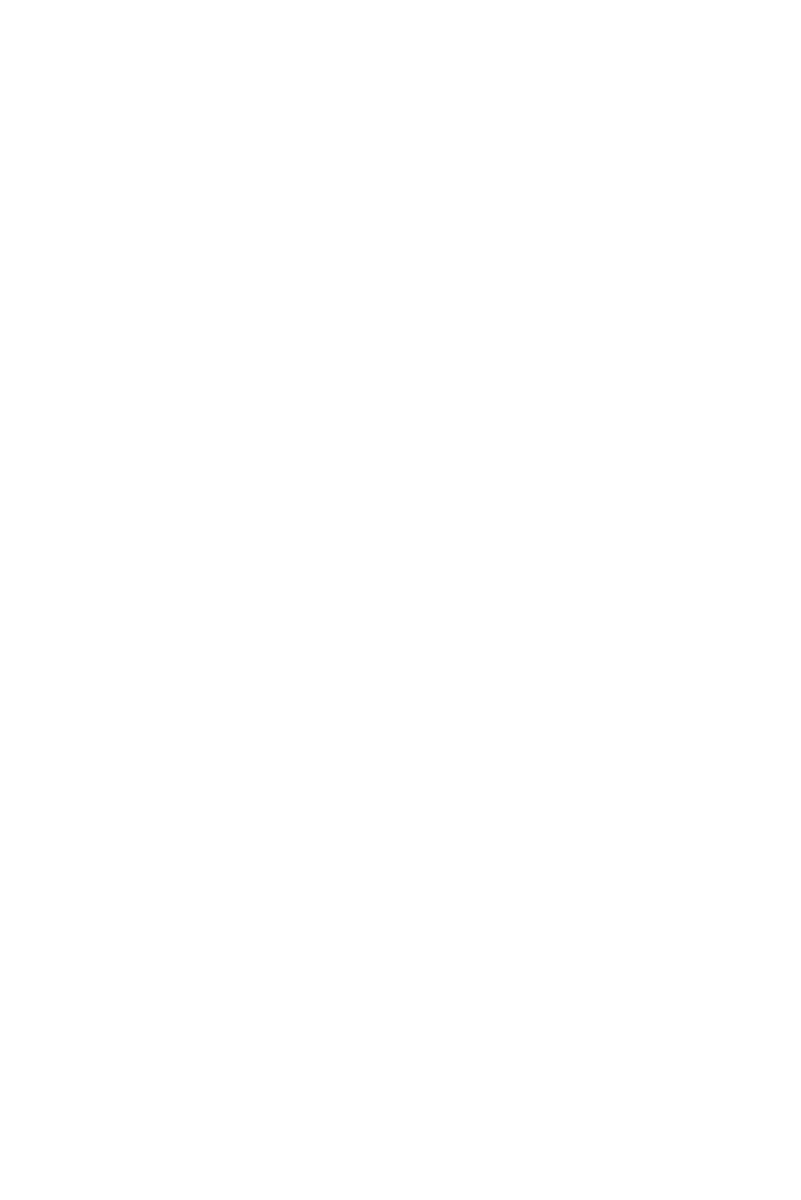
Также в контексте хочется рассказать о графическом романе "Сурвило" Ольги Лаврентьевой.
Биографический роман рассказывает историю жизни Ольгиной бабушки Валентины Викентьевны Сурвило, прошедшей через страшные годы репрессии и блокаду Ленинграда.
Сегодня про женщин пишут по-прежнему мало. Но этот комикс отчасти окупает дефицит, ведь история одной ленинградской женщины становится отражением судеб миллионов людей. Особый эффект добавляет тот момент, что со страниц на тебя смотрят герои — прототипы настоящих людей.
"Сурвило" — это чувственный опыт, что бьет наотмашь. От первого и до последнего рисунка веришь истории и удивляешься смелости автора, создавшего крайне важную книгу для поколения, которое нуждается в новых текстах о военном времени.
Биографический роман рассказывает историю жизни Ольгиной бабушки Валентины Викентьевны Сурвило, прошедшей через страшные годы репрессии и блокаду Ленинграда.
Сегодня про женщин пишут по-прежнему мало. Но этот комикс отчасти окупает дефицит, ведь история одной ленинградской женщины становится отражением судеб миллионов людей. Особый эффект добавляет тот момент, что со страниц на тебя смотрят герои — прототипы настоящих людей.
"Сурвило" — это чувственный опыт, что бьет наотмашь. От первого и до последнего рисунка веришь истории и удивляешься смелости автора, создавшего крайне важную книгу для поколения, которое нуждается в новых текстах о военном времени.
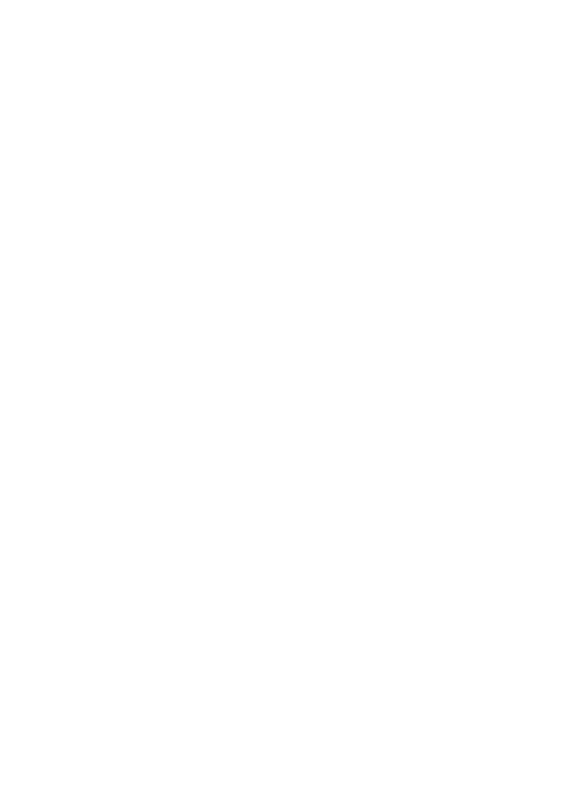
Над графическим романом Ольга работала больше двух лет. А вес нарисованных иллюстраций составил больше трёх килограммам.
К слову для тех, кто отвернётся от текста только потому, что это графический роман или в народе комикс. А вы знаете, что изначально упомянутый "Вася Тёркин" издавался тоже как комикс? И ничего, солдаты читали с удовольствием.
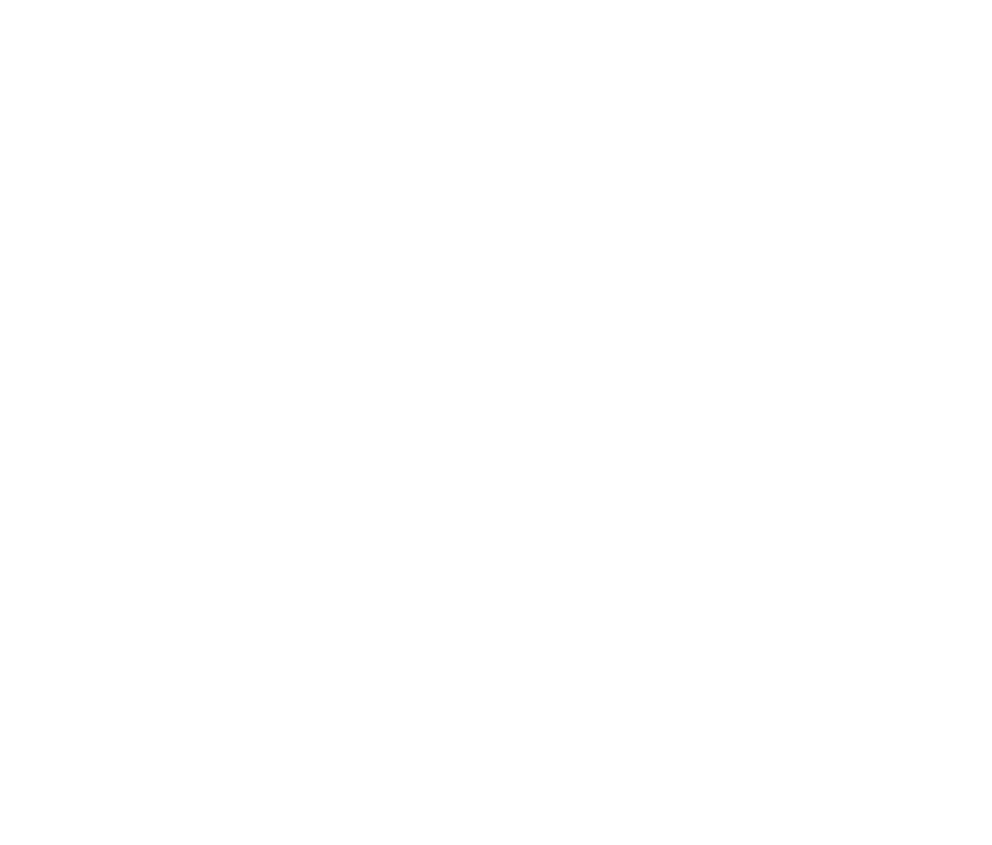
Для любителей современной русской литературы советуем обратить внимание на книгу Дмитрия Быкова "Июнь". Роман о предвоенном времени, описывающий события в Советском Союзе 1939–1941 годов.
Дмитрий Быков собирает пирамиду романа из трех историй, нанизывая судьбы своих героев на предчувствие войны. И напряжение все нарастает, потому что, в отличие от героев, читатель не только точно знает, что война будет, но и знает, какой страшной она окажется.
В то время как герои торопят войну, считая, что она разрубит все узлы.
Дмитрий Быков собирает пирамиду романа из трех историй, нанизывая судьбы своих героев на предчувствие войны. И напряжение все нарастает, потому что, в отличие от героев, читатель не только точно знает, что война будет, но и знает, какой страшной она окажется.
В то время как герои торопят войну, считая, что она разрубит все узлы.
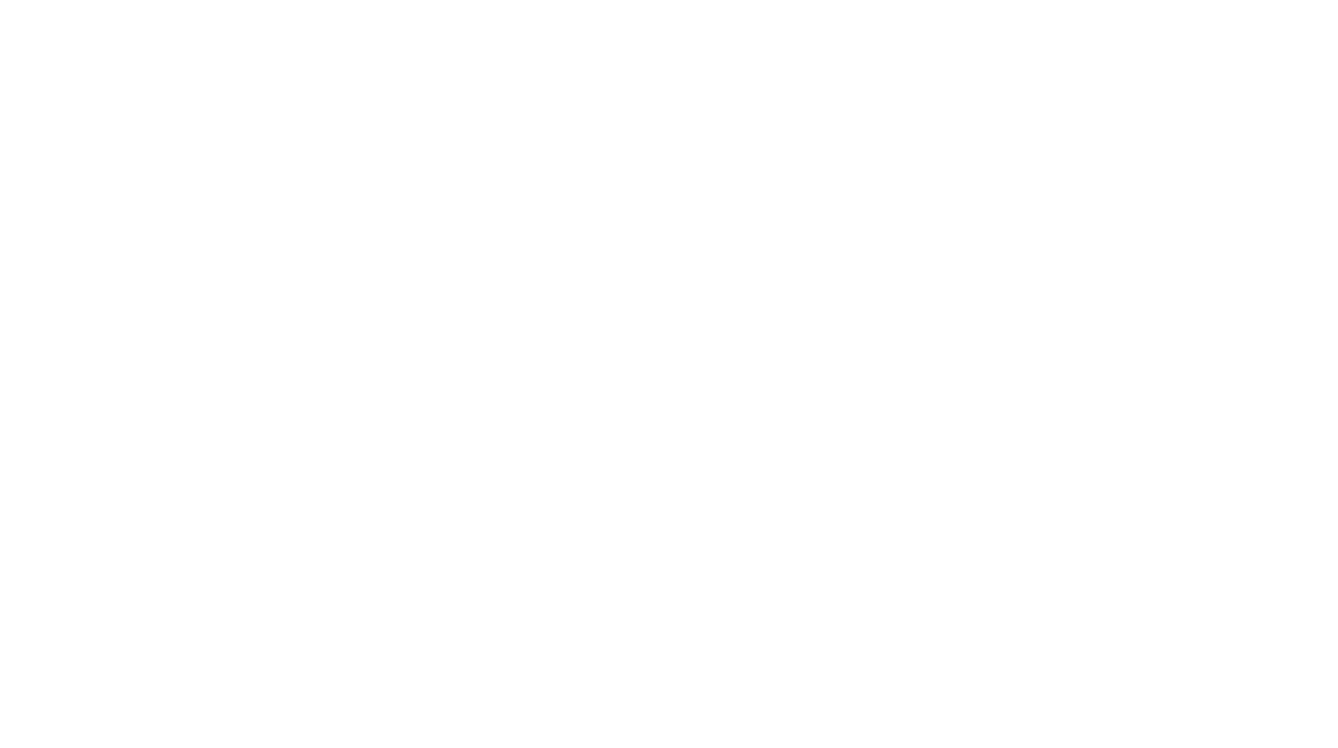
Также хотим обратить внимание на книгу уральских авторов "Повести о военном детстве". Известные екатеринбуржцы, как Майя Никулина и Владимир Блинов, вспоминают своё военное детство, которого и не было...
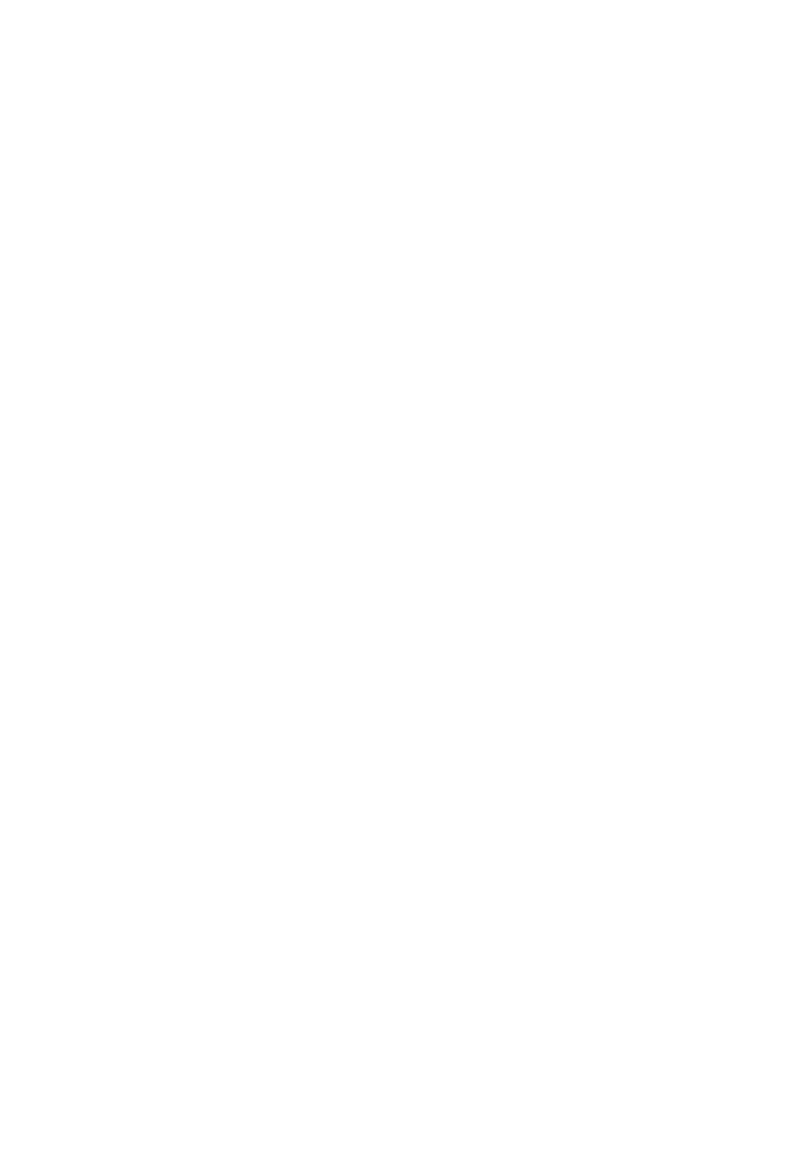
Владимир Блинов из интервью "Областной газете:
Всегда буду помнить наш тыл, убогость, голод и в тоже время ожидание Победы. В народе тогда даже было такое выражение: «А помните, как было до войны?». Именно поэтому моя первая книжка в прозе называется «Хлебная карточка» — у меня до сих пор лежат эти карточки на продукты. Их ещё называли неотоваренными, так как карточку выдавали, а продукты могли и не выдать… Как-то Евгений Евтушенко сказал, что «Свердловск — это Сталинград нашего тыла». Если б не было Свердловска, Челябинска и Нижнего Тагила, не получилось бы и победы под Сталинградом. Поэтому я очень рад, что мне удалось быть составителем книги «Повести о военном детстве», в которую вошли произведения Сергея Бетёва, Алексея Решетова и других авторов.
Воспоминания Майи Никулиной из книги:
"Очень ждали сахара: он считался лекарством, врач над больным ребёнком тихо говорил: "Чаю бы ему с сахаром...". В 1943 году рабочим Уралмаша давали на обед — прямо по архивным документам: "5 дней с 13 марта ... мороженая брюква и мороженая кормовая свёкла" и чай без сахара (читай: кипяток).
"Очень ждали сахара: он считался лекарством, врач над больным ребёнком тихо говорил: "Чаю бы ему с сахаром...". В 1943 году рабочим Уралмаша давали на обед — прямо по архивным документам: "5 дней с 13 марта ... мороженая брюква и мороженая кормовая свёкла" и чай без сахара (читай: кипяток).
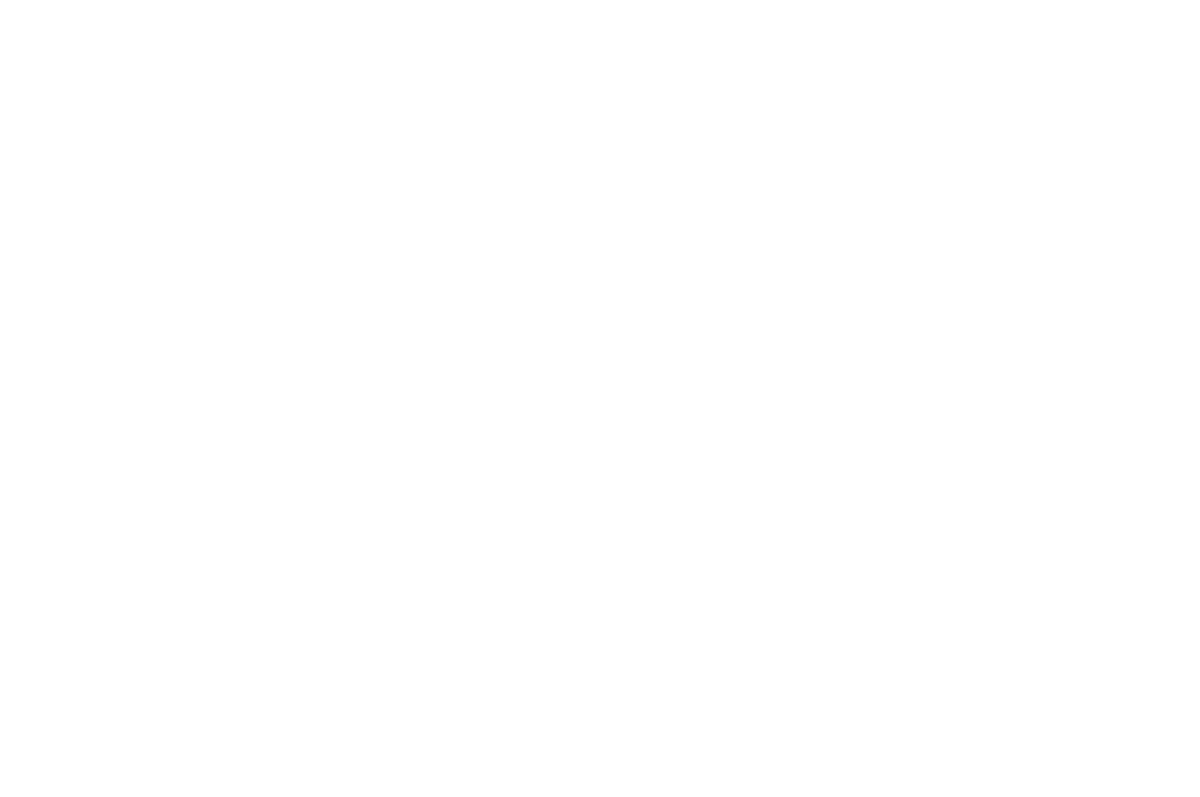
От последних выстрелов Великой Отечественной войны нас отделяют
десятилетия – срок немалый. За это время выросло новое поколение людей,
которых не коснулось военное время. Но не иссякает поистине мировой
интерес к событиям 1941-1945 годов. Это объясняется таким
явлением, как память. По прошествии ряда десятилетий уйдёт из
жизни то поколение, а уже 75-я годовщина, для которого эти события являются предметом личного травматического опыта. То, что сегодня отчасти ещё является живым воспоминанием, завтра будет сообщаться одними лишь средствами массовой информации.
А как мы помним? А что такое память? Как формируется историческая память? Или, к примеру, как и в силу каких механизмов мы привыкли помнить о Ленинградской блокаде?
Если вас интересует научное обоснование памяти поколений, то советуем для прочтения:
десятилетия – срок немалый. За это время выросло новое поколение людей,
которых не коснулось военное время. Но не иссякает поистине мировой
интерес к событиям 1941-1945 годов. Это объясняется таким
явлением, как память. По прошествии ряда десятилетий уйдёт из
жизни то поколение, а уже 75-я годовщина, для которого эти события являются предметом личного травматического опыта. То, что сегодня отчасти ещё является живым воспоминанием, завтра будет сообщаться одними лишь средствами массовой информации.
А как мы помним? А что такое память? Как формируется историческая память? Или, к примеру, как и в силу каких механизмов мы привыкли помнить о Ленинградской блокаде?
Если вас интересует научное обоснование памяти поколений, то советуем для прочтения:
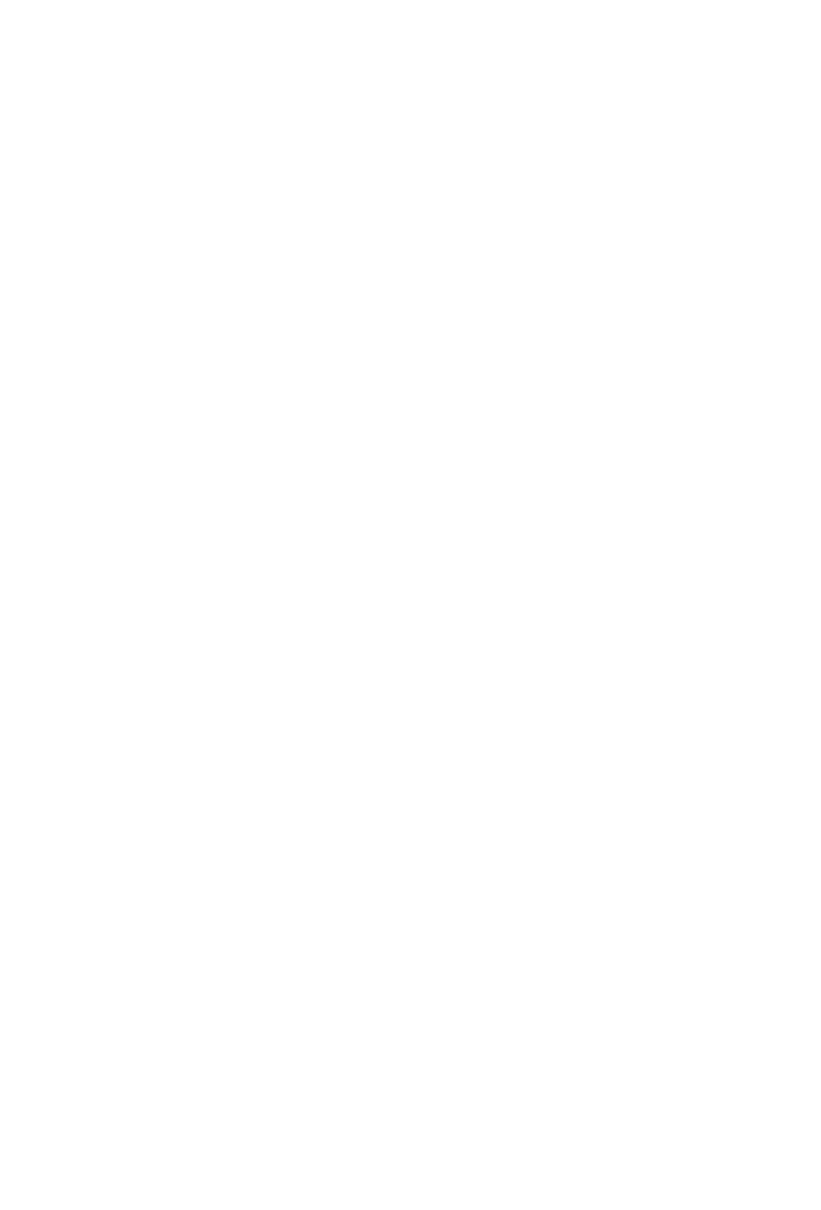 | 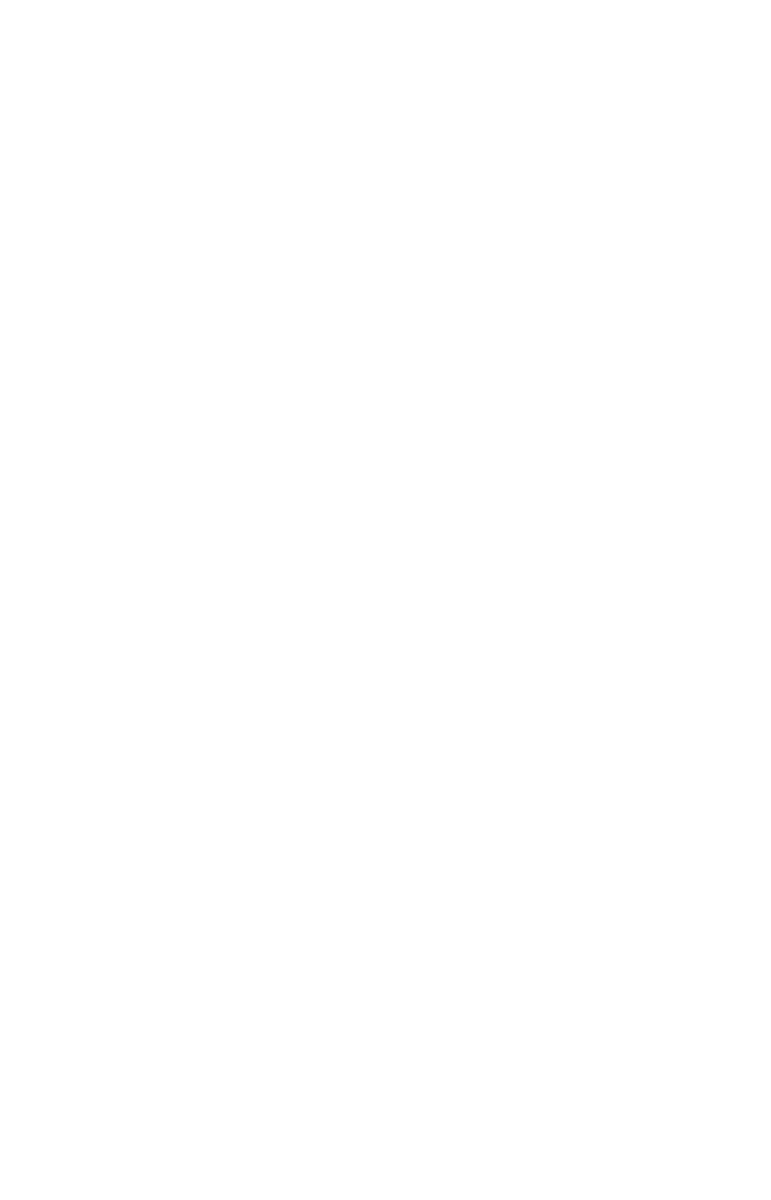 |
Читать — это важно, ещё важнее спросить: "А как было?", "А что я должен сохранить?", но главное успеть сказать: "Спасибо!".
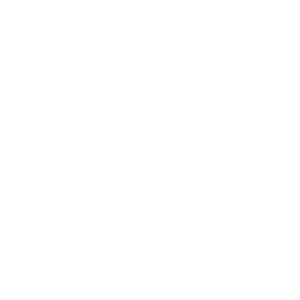
Ксения Кузнецова
Автор
